Posted 4 ноября 2023,, 12:28
Published 4 ноября 2023,, 12:28
Modified 4 ноября 2023,, 12:30
Updated 4 ноября 2023,, 12:30

Редкое искусство вспоминать советское детство по-детски: о прозе Рената Беккина
Анна Берсенева*
Главная черта новой книги рассказов Рената Беккина «Ленинградское детство» (М.: Стеклограф. 2023) — парадоксальность.
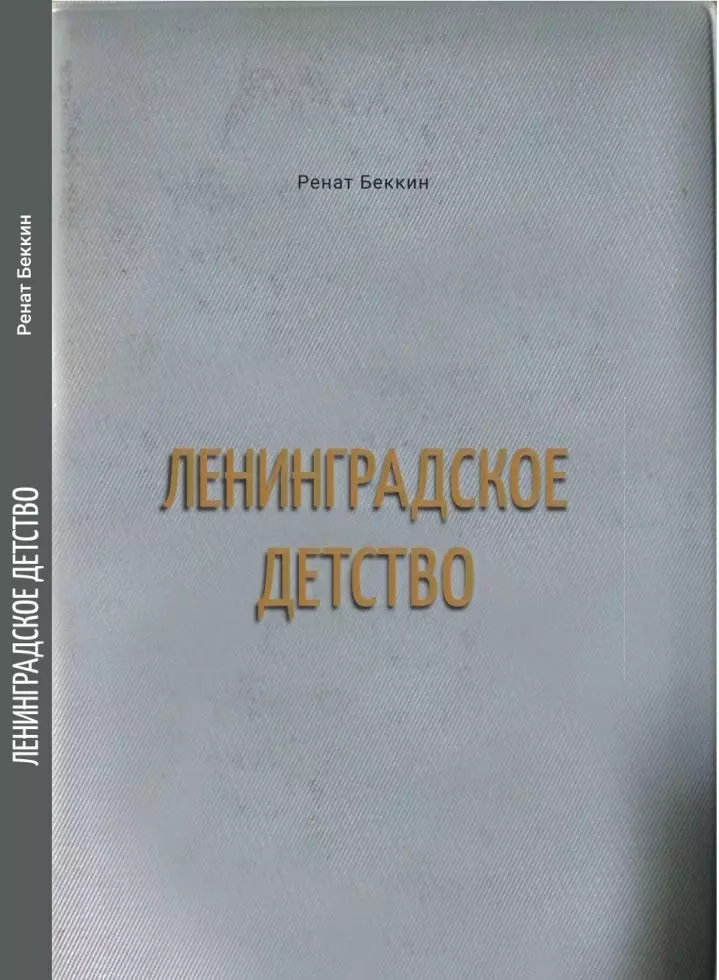
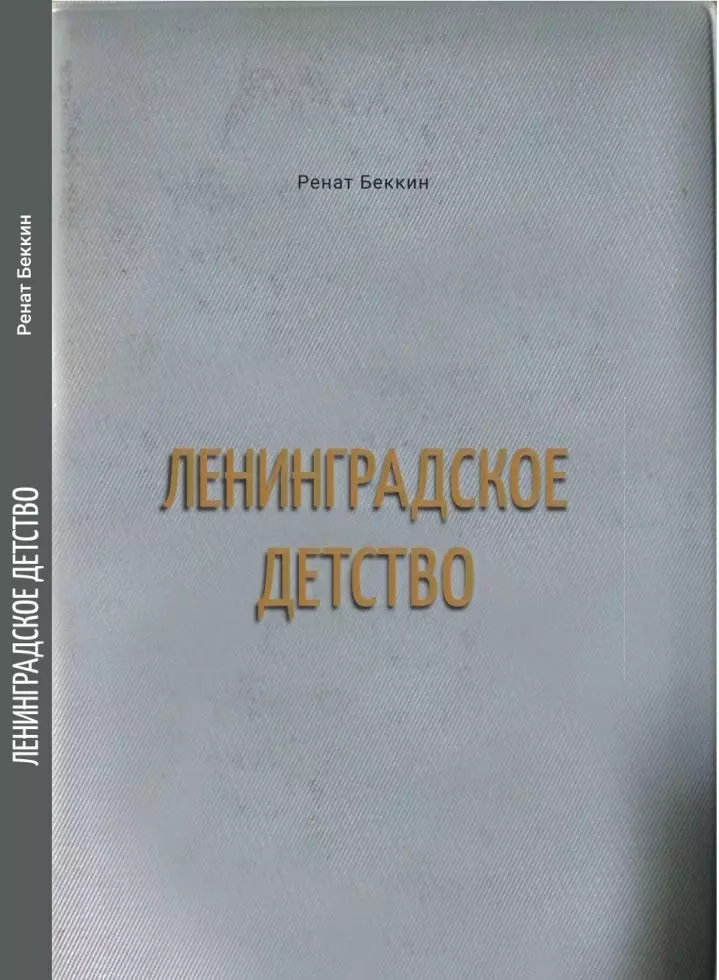
Едва ли читатель ожидает именно этого от книги, в которой, как сказано в предисловии, автор пытается подцепить свои детские воспоминания, как рыбок на старую игрушечную удочку. Ожидания в этом случае обычно сентиментальные, в духе «и у меня точно так же было». В рассказах же Рената Беккина не много встретится того, что соответствовало бы этой установке. Герой-повествователь таким образом располагает события по их значимости, что картина мира в результате получается слишком необычная для безусловного узнавания ее всеми и каждым.
Это очень бросается в глаза потому, что и сами события жизни ребенка, а затем подростка (незаурядного — поступающего в школу с углубленным изучением китайского языка, участвующего в знаменитой передаче «Умники и умницы»), и подробности ленинградского быта действительно узнаваемы, ничего экзотического в них нет. Нет, кстати, и ностальгии по советским временам.
«Когда при мне кто-нибудь начинает нахваливать СССР, я всякий раз задаю такому человеку один и тот же вопрос: о каком времени идет речь? Вопрос этот отнюдь не праздный. Очевидно, у нас будут неодинаковые воспоминания о Советском Союзе с человеком, родившимся, скажем, в 1930-м году. Известно, что люди часто вспоминают не столько саму эпоху, сколько себя самих на фоне угасшего времени. Да что там время! Место имеет не меньшее значение. Когда я рассказывал о своем ленинградском детстве ровесникам из Казани и других замечательных городов, они слушали меня так, как будто я жил в другой стране. Я застал лишь небольшой кусочек советского периода нашей истории, и потому могу судить о Советском Союзе, каким я запомнил его с середины 1980-х. Кусочек этот был не самый плохой. Это был розовый Советский Союз, где еще сохранялись прежние институты авторитарного государства, но при этом людям уже не засоряли мозги пропагандой, в которую давно никто не верил. Можно было свободно говорить и думать, не боясь, что кто-нибудь одернет тебя и нажалуется „кому следует“. Взрослые вокруг на что-то надеялись и ждали только самого лучшего».
Ленинградский мальчик растет в интеллигентной семье, его жизнь разумна и безмятежна. Важно, что семья татарская, и хотя мусульманство возникает в детских воспоминаниях даже не фоном, а промельками, оно имеет значение как система семейных традиций и ценностей. Санкт-Петербург всегда, в том числе в советское свое, ленинградское время был устроен сложно, тонко, разнообразно, и мусульманская жизнь — часть такого филигранного его устройства. Ренат Беккин, доктор наук, специалист по исламской экономике и финансам, создатель первой в истории новейшей России кафедры исламоведения в светском вузе (Казанском университете), еще в 2016 году написал о ней исторический путеводитель «Мусульманский Петербург», в котором представлены ученые, врачи, архитекторы, военные, купцы, меценаты. Его же собственное осознание веры, которое он описывает в книге, произошло неожиданным образом — во время службы лютеранского проповедника. Когда проповедь была окончена, «все поднялись и стали хором петь песню. Были там такие слова:
Я стою на холме,
Старый крест виден мне,
Знак позора, страданий и мук.
О Христе мы поем,
Потому что на нем
Был распят лучший грешников друг…
Я слушал эту песню, а в сердце моем уже звучала другая мелодия. С каждым годом она становилась все слышнее и слышнее. Это была мелодия азана, призыва к молитве. Тогда, в пору моего отрочества, я еще не умел различать слова и улавливал эту музыку лишь одним разумом сердца. А минарет, с вершины которого звучал азан, пока существовал лишь в моем детском воображении как таинственный символ общения с Богом».
Это событие естественным образом вписывается в авторское видение мира вообще, причем с самых ранних проявлений. Вот он рассказывает о первых месяцах своей жизни, когда «рос обычным здоровым малюткой, которому полагалось по несколько раз в день припадать к материнской груди, безмятежно спать, не опасаясь наблюдающих за мной больших людей, и громко сожалеть, когда мир вокруг оказывался не таким, как я хотел». В то время по неизвестной причине (не в связи ли с какими-нибудь религиозными приметами, кстати?) младенца по несколько раз за ночь разворачивали на сто восемьдесят градусов — макушкой то на юг, то на север. И вот однажды, сразу после того, как мама произвела очередное перекладывание, в окно влетел булыжник и упал у ног ребенка. Впоследствии выяснилось, что бросил его психически больной сосед, у которого вызвал раздражение свет ночника. Если бы не удивительное перекладывание, булыжник размозжил бы голову младенца. Но не менее удивительно здесь то, как завершается в книге рассказ об этом: «Когда мне в первый раз поведали эту историю, я огорчился, что родители не сберегли этот булыжник. Я бы хранил его как оберег и показывал романтичным девочкам, которые так любят слушать подобные истории за чашкой чая. Особенно когда к чаю прилагается мед или варенье». Почему вдруг мед и варенье возникают именно здесь, в какой странной связи находятся они со всей этой странной, отмеченной мистикой историей? Единственное правильное объяснение — неожиданность авторского мышления вообще.
Эта неожиданность, парадоксальность лежит в основе метафор, да и всего авторского стиля Рената Беккина.
Так он пишет про своего любимого игрушечного поросенка: «Он делил со мной постель, принимал ванну, пил чай, погрузив в чашку свое легкое, как сон комара, пластмассовое тело, и делал многое другое, о чем остальные мои игрушки даже мечтать не могли, если бы умели это делать».
И о похоронах хомяка: «Я настоял на том, чтобы Карбыша хоронили по-настоящему — в гробу. Для этих целей подошел небольшой фанерный ящичек из-под бандероли. С помощью бритвы я, как мог, затер надпись с нашим адресом. Теперь адресат у этой посылки был иной».
И все-таки такой взгляд — примета главным образом не стиля, а именно мышления. Оно и позволяет автору обозначать главное в каждой истории своего детства, в том числе совсем раннего. Рассказ о том, как друг Петька убил лягушку, потому что та слишком противно выглядела, и главный герой решил, что надо ее вскрыть, — именно так и заканчивается:
«Дома я спросил папу, есть ли у лягушек сердце.
— Конечно есть, — сказал папа. — А почему ты спрашиваешь?
И я рассказал ему историю про лягушку.
— Это не у лягушки, а у тебя сердца нет, — покачал головой папа. — Иначе бы ты не убил животное, которое тебе ничего плохого не сделало.
Я стал объяснять, что убил-то как раз Петька, а я только хотел узнать, что у нее внутри, раз уж она все равно неживая была.
— Вы оба убили, — сказал папа.
Так я узнал, что такое коллективная вина. Больше лягушек я не убивал. И Петьке не позволял».
Ренат Беккин не пытается взглянуть на события своего детства своими сегодняшними глазами — он воспроизводит действительность такой, какой видел ее ребенок. Но взрослые люди в абсолютном своем большинстве утрачивают эту способность, а в «Ленинградском детстве» парадоксальность взгляда не только не потеряна, но наоборот, стала главным художественным приемом, таким же ярким, как содержание этих рассказов.
*18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЁН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ